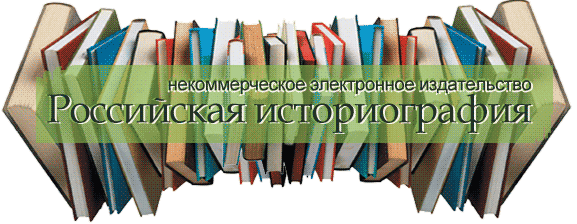|
Навигация Главная страницаБиблиография Тематика публикаций:
Историческая энциклопедия Источники Полезная информация Выписки и комментарии Критические заметки Записки, письма, дневники Биографии и воспоминания Аннотации Обратная связь Поиск по сайту |
Статьи Главная » Статьи » Тематика » ИсториографияCостоятельны ли взгляды Максима Викторовича Сапронова на использование синергетического "принципа самоорганизации" в исследовании прошлого?
Для субъективно-идеалистического «конструирования» прошлого используются множество приемов и форм, в том числе и «синергетическая исследовательская парадигма».
Как известно, синергетика изучает «эволюцию и самоорганизацию систем открытого типа с нелинейными обратными связями». Эта отрасль знания возникла в «русле развития естественно-научных дисциплин». Но почему-то считается, что она «оказалась плодотворной при исследовании также социальных проблем». Для доказательства этого тезиса используется соответствующая синергетическая терминология. Вот один из ее образчиков: «если представить аттракторы как состояния, имеющие конус притяжения, то внутри этих конусов грядущий ход событий начнет оказывать решающее воздействие на настоящее». «Это заманчивая возможность, - утверждает Л.В. Лесков, один из авторов «Словаря философских терминов», изданного в 2005 году к юбилею МГУ им. М.В. Ломоносова, - для стабилизации социальных процессов: настоящее определяется не прошлым, как в случае линейных систем, а будущим». Таким образом, сторонники использования синергетики в общественных науках пытаются доказать, что «настоящее определяется не прошлым, а будущим», что «существуют универсальные сценарии перехода от порядка к хаосу и наоборот – от хаоса к порядку»[1]. Историк М.В. Сапронов (г. Челябинск) синергетический «принцип самоорганизации» объявляет ни больше ни меньше фундаментом новой познавательной парадигмы, ядром абсолютно «всех концепций постнеклассических наук». Именно с этой парадигмой он связывает «будущее исторической науки». Но тут же уточняет, что «это самое таинственное, до конца еще не разгаданное явление». Вероятно, основываясь на этой «таинственной» и «до конца не разгаданной» методологии, М.В. Сапронов пришел к весьма странному выводу о том, что тоталитаризм, Вторая мировая война, ядерное оружие, глобальная экологическая катастрофа и даже терроризм (?! - Л.К.) связаны со «слепой верой в прогресс и во всесилье человеческого разума» [2]. Кроме того, этот исследователь считает, что мало «рассматривать прошлые события с учетом конкретной обстановки, в которой они протекали», историк должен стать «их участником», «находясь внутри наблюдаемой системы и ведя диалог с ней на ее собственном языке». М.В. Сапронов солидарен с филологом и философом Н.Н. Козловой (1946-2002), заявлявшей, что историк «ощущает себя непосредственно включенным в живую историческую цепь и принимает на себя ответственность за деяния предшественников и современников». «И тогда, - уверяла Н.Н. Козлова, - начинаются чудеса превращения. Тогда ненавистные «они» оказываются отцами и дедами. Становится возможным разглядеть человеческое лицо любого процесса…»[3]. Все эти "чудеса", видимо, вытекают из "ключевой, - как полагала Наталья Никитична, - для теоретического рассмотрения специфики социальной реальности" (также весьма спорной - Л.К.) концепции т.н. "онтологического соучастия"[4]. Если следовать Н.Н. Козловой, то историк должен «принимать на себя ответственность за деяния», например, палачей из НКВД в годы массовых репрессий. И как в этой ситуации М.В. Сапронов представляет себе «участие» историка в этих деяниях, да еще «находясь внутри наблюдаемой системы и ведя диалог с ней на ее собственном языке»? И какие же «чудеса превращения» должны произойти, чтобы заплечных дел мастера из сталинского НКВД вдруг превратились еще и в наших «отцов и дедов»? При изучении советского прошлого, - утверждала Наталья Никитична, - нужно учитывать "память тела - тела, наполненного немотой воспоминаний, тела маркированного, нагруженного уже свершившейся историей. Именно благодаря памяти тела рождается ощущение подлинности воскрешенного прошлого, и мы испытываем радость, обретая действительность"[5]. После подобных теоретических «откровений» становится понятным - почему большая часть отечественных историков (по мнению М.В. Сапронова) не хочет расставаться с «устаревшими стереотипами мышления» и «следовать в ногу со временем» и «войти в грядущую эпоху с обновленным мировоззренческим багажом»[6]. В такой трактовке принцип «самоорганизации» вступает в непреодолимое противоречие с принципом историзма, - основополагающим, доказавшим свою эвристическую эффективность, принципом исторического исследования. Если же говорить в целом о проблеме использования синергетических методологий в исторических исследованиях, то стоит прислушаться к польскому историку, методологу и историографу Ежи Топольскому (1928-1998), утверждавшему, то синергетика "не дает для исторического анализа ничего более собрания новых терминов и метафор. Ни в коей мере она не представляет объяснений, которые были бы глубже фактографического описания"[7]. Мнение проблематичное, но отражающее некоторые аспекты нынешнего состояния применения синергетических методологий в исторических исследованиях. Одно несомненно: в настоящее время, под разговоры о "междисциплинарности", происходит постепенное и целенаправленное размывание сложившегося понятийного аппарата исторической науки путем массового (без проведения соответствующей историко-методологического адаптации) перенесения в него понятий и терминов из других наук. Можно констатировать, что пока эффективность применения синергетических методологий в исторических исследованиях не доказана. Думается, что главная причина этих неудач заключается в том, что никто не удосужился провести специальное теоретическое исследование хотя бы на предмет совместимости принципа историзма и принципа "самоорганизации". Только в том случае, когда результат оказался бы положительным, можно было бы подумать о границах интеграции этих методологических принципов. В итоге, могла бы возникнуть обновленная теория исследования прошлого. На базе этой обновленной теории логично было бы перейти к разработке исследовательских методик по конкретным направлениям и разделам самой исторической науки. Именно эти методики, вероятно, и ждут практикующие историки, уставшие от общих рассуждений "о светлом синергетическом будущем". А пока всего этого нет, происходит примитивная подмена принципа историзма, доказавшего за много лет свою эвристическую ценность, принципом "самоорганизации", никак не адаптированного к академической истории. В этой ситуации исследование просто обречено на провал, так как историку, адепту синергетики, остается только подгонять исторические факты под "синергетические" схемы, что и приводит к постмодернистскому "конструированию" истории. Вероятно, теоретикам и организаторам "синергизации" академической истории нужно отказаться от порочной практики "лобового" применения теоретических разработок синергетического толка в практике исторических исследований - это абсолютно тупиковый путь. Прошло уже достаточно много времени со дня провозглашения в нашей стране синергетики как универсальной парадигмы научного исследования, сегодня нужны уже не общие рассуждения, основанные на мертвых схоластических схемах, а массовые доказательства эффективности именно синергетических методологий и именно в академической истории. Но без комплексной адаптации синергетических методологий к специфическим условиям исторического исследования добиться каких-либо существенных успехов в этом направлении невозможно [10]. Ссылки и примечания 1. См. Словарь философских терминов /Под ред. В.Г. Кузнецова. М., 2005. С.504-505. 2. См. Сапронов М.В. Концепция самоорганизации в обществознании: мода или насущная необходимость? (Размышления о будущем исторической науки) //Общественные науки и современность. 2001. №1. С. 151-154. 3. См. Сапронов М.В. Концепция самоорганизации в обществознании: мода или насущная необходимость? (Размышления о будущем исторической науки). С. 158. 4. См. Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005. С. 13. Эта книга, отнюдь, не художественное произведение. Она снабжена теоретическими главами, научным аппаратом. 5. См. Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005. С. 18. 6. См. Сапронов М.В. Концепция самоорганизации в обществознании: мода или насущная необходимость? (Размышления о будущем исторической науки). С. 160. 7. Цит. по: Бородкин Л.И. "Порядок из хаоса": концепции синергетики в методологии исторических исследований. 8. См. Бочаров А.В. Проблема альтернативности исторического развития: историографические и методологические аспекты. Автор. дис. к.ист. наук. Томск, 2002. С. 15). Контраргументы см.: Бородкин Л.И. Моделирование исторических процессов: от реконструкции реальности к анализу альтернатив. СПб.: Алетейя, 2016. С. 150-151. 10. Подробнее см.: Кузеванов Л.И. Методология истории: академизм и постмодернизм. 3-е изд., доп. и перер. Балашов, 2023. С. 30-32. ©Кузеванов Леонид Иванович, кандидат исторических наук, доцент, 2016-2024 См. материал "Филатов Тимур Валентинович и Ипполитов Георгий Михайлович о методологии истории. Обоснованы ли выводы?" См. материал "Борода Годунова" или "историческая проза". В чем ошибался Георгий Степанович Кнабе?" См. материал "Противоречия в постмодернистской концепции истории Ирины Максимовны Савельевой и Андрея Владимировича Полетаева". См. материал "Постмодернизм в познании прошлого". См. книгу "Методология истории: академизм и постмодернизм". Выделения в тексте курсивом и полужирным шрифтом сделаны автором данного материала.
| Дата размещения: 05.08.2024 |
|
Аннотации
|