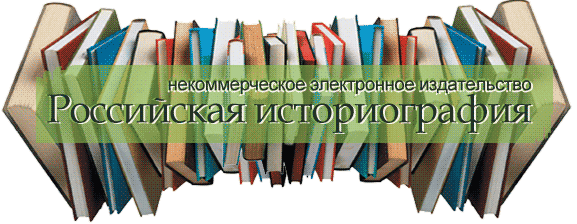|
Навигация Главная страницаБиблиография Тематика публикаций:
Историческая энциклопедия Источники Полезная информация Выписки и комментарии Критические заметки Записки, письма, дневники Биографии и воспоминания Аннотации Обратная связь Поиск по сайту |
Главная » Тематика » Монографии, книги, брошюры
Кузеванов Л.И. Методология исторического исследования: академизм и постмодернизм. Моног. 3-е изд., пер. и доп., Балашов, 2021-2023. Ч. 2.
См. начало работы. -26- И еще один важный момент. Отрицая значение марксистской концепции исторического процесса как единственно возможной и правильной, в то же время, нельзя не видеть ее сильных эвристических сторон: пристальное внимание к истории народных движений, экономической истории, удачное использование отдельных положений диалектико-материалистического подхода к анализу исторических фактов. Б.Г. Могильницкий писал о том, что марксизм, в конце концов, был включен «в общее русло развития исторической мысли»… «На смену игнорированию или уничтожающей критике учения Маркса стало приходить понимание того, что оно является органической частью западного исторического мышления, всей западной культуры»[43]. Это один из аргументов, в соответствии с которым было бы ошибкой сбрасывать со счетов достижения советских методологов. Особенно это относится к творчеству М.А. Барга (1915-1991), Э.В. Ильенкова (1924-1979) и П.В. Копнина (1922-1971). Попытка П.В. Турчина отождествить эффективность профессионально проведенного исторического исследования лишь с литературными талантами или авторитетом того или иного историка только на том основании, что последний не видит "острой" необходимости в поиске "объективных законов", мягко говоря, не логичны и противоречат суждению самого же П.В. Турчина о том, что история "состоялась как описательная наука". Нельзя согласиться и с тем его мнением, что в наше время какое-либо высокое ученое звание автоматически обеспечивает авторитет в науке. Яркий тому пример - широкая по охвату проблем, продолжающаяся уже не один год, критика исторических трудов академика РАН А.Т. Фоменко и его единомышленников. В то же время, сторонники "новой хронологии" имеют реальную возможность отвечать на эту критику (издание новых книг, интервью, лекции, открытие 29 декабря 2019 г. в г. Ярославле специализированного музея по "новой хронологии"[46] и т.д.). То есть налицо борьба мнений и концепций. 2.6."Историческая проза". Филолог и историк Г.С. Кнабе (1920-2011), видимо, претендуя на свой «вклад» в разработку методологии "конструирования прошлого", озвучивал, чтобы не сказать больше, странные для историка, но, возможно, приемлемые для филолога рекомендации. Так, говоря об отсутствии в исторических источниках необходимой информации о «непосредственной повседневной жизни», он предлагал «частично конструировать прошлое» с помощью «элементов интуиции и воображения». В итоге, «результаты проделанной работы» начинают «тяготеть к форме исторического романа», которую Г.С. Кнабе почему-то называл «особым видом исторической реконструкции» - «исторической прозой». При этом «грань между художественно создаваемой пластикой истории и научно воссоздаваемой ее структурой становится расплывчатой, а познание приближается к синтезу аналитического знания и целостного переживания»[47]. Обратим внимание на символическую деталь: когда Г.С. Кнабе предлагает придумывать с помощью "воображения и элементов интуиции" несуществующие исторические факты, он использует термин "конструирование". В то же время, он не отказывается от понятия "реконструкция", рассуждая об "исторической прозе" как об особой ее (реконструкции) форме. В итоге получается понятие-кентавр "конструкция-реконструкция" - также как у И.М. Савельевой и А.В. Полетаева. Разница лишь в том, что Г.С. Кнабе вполне сознательно предлагает "конструировать", то есть придумывать исторические факты, в то же время прикрываясь зонтиком особой формы "реконструкции" ("историческая проза"). Но допуская саму возможность хотя бы частичного придумывания ("конструирования") никогда не существовавших исторических фактов, Г.С. Кнабе тем самым заранее ставил под сомнение достоверность планируемого исследования. 2.7."Концептуальные мутации". Свою лепту в развитие концепции "конструирования прошлого" внесли философ Т.В. Филатов и историк Г.М. Ипполитов, используя понятие "концептуальная мутация", смысл которой "в отклонении от "правильного" воспроизведения соответствующих смыслов, генерируемых в сознании философа в процессе авторского осмысления оригинальных текстов"[48]. Видимо, и В.В. Миронов (1953-2020) во вступительной статье к «Словарю философских терминов», изданному к 250-летию МГУ им. М.В. Ломоносова, имел ввиду именно эти "мутации", когда писал, что «философ ищет в тексте новые смыслы, более того, он вправе допустить такую интерпретацию (крамольную лишь с позиции историка философии), которая может даже исказить изначальный смысл текста, так как его значение сопрягается с личной рефлексией философа над сегодняшним бытием»[49]. Фактически "концептуальные мутации" - это еще одна разновидность "конструирования" природно-исторической действительности (в данном случае, "искажения изначального смысла документа" под воздействием "личной рефлексии" философа). Вероятно, именно эти "мутации" являются основанием для утверждений сторонников постмодернизма о его «несомненном» «позитивном влиянии» на историческую науку[50], присутствия в нем якобы когнитивных «мобилизующих» возможностей [51]. Однако неизбежно возникают вопросы: а почему бы философу (а тем более историку) сначала не выяснить смыслы, заложенные в тексте самим автором, а уж потом упражняться в поиске "новых смыслов", "сопряженных с личной рефлексией философа над сегодняшним бытием" (скажем, в отдельной главе, которую так и назвать "Искажения изначального смысла документа (название) в ходе сопряжения с личной рефлексией философа (ФИО) над сегодняшним бытием")? зачем вообще исследователю нужно искажать изначальный смысл документа (источника)? не подменяется ли таким образом исследование с его весьма разнообразным набором методов и средств, по сути, некими произвольными конструкциями литературно-художественного плана? не игнорируется ли таким образом общенаучный методологический принцип историзма? 2.8.Псевдосинергизация истории. 2.8.1.«Онтологическое соучастие». Историк М.В. Сапронов, убежденный сторонник "синергизации" исторической науки, считает, что мало «рассматривать прошлые события с учетом конкретной обстановки, в которой они протекали», исследователь должен стать «их участником», «находясь внутри наблюдаемой системы и ведя диалог с ней на ее собственном языке». При этом М.В. Сапронов опирается, прямо скажем, на весьма спорные утверждения филолога и философа Н.Н. Козловой (1946-2002), считавшей, что исследователь «ощущает себя непосредственно включенным в живую историческую цепь и принимает на себя ответственность за деяния предшественников и современников». «И тогда, - уверяла Н.Н. Козлова, - начинаются чудеса превращения. Тогда ненавистные «они» оказываются отцами и дедами. Становится возможным разглядеть человеческое лицо любого процесса…»[52]. Все эти "чудеса", видимо, вытекают из "ключевой, - как полагала Наталья Никитична, - для теоретического рассмотрения специфики социальной реальности" (также весьма спорной - Л.К.) концепции т.н. "онтологического соучастия"[53]. Но, если следовать Н.Н. Козловой, то историк должен «принимать на себя ответственность за деяния», например, палачей из НКВД в годы массовых репрессий. И как в этой ситуации М.В. Сапронов представляет себе «участие» историка в этих деяниях, да еще «находясь внутри наблюдаемой системы и ведя диалог с ней на ее собственном языке»? И какие же «чудеса превращения» должны произойти, чтобы заплечных дел мастера из сталинского НКВД вдруг превратились еще и в наших «отцов и дедов»? Фантастическим представляется утверждение Н.Н. Козловой о том, что при изучении советского прошлого нужно учитывать "память тела - тела, наполненного немотой воспоминаний, тела маркированного, нагруженного уже свершившейся историей. Именно благодаря памяти тела рождается ощущение подлинности воскрешенного прошлого, и мы испытываем радость, обретая действительность"[54]. После ознакомления с таким «конструированием прошлого» становится понятным – почему большая часть отечественных историков не хочет, по мнению М.В. Сапронова, расставаться с «устаревшими стереотипами мышления» и «следовать в ногу со временем» и «войти в грядущую эпоху с обновленным мировоззренческим багажом»[55]. Если же говорить в целом о проблеме использования синергетических методологий в исторических исследованиях, то стоит прислушаться к историку, методологу и историографу Е. Топольскому (1928-1998), утверждавшему, что синергетика "не дает для исторического анализа ничего более собрания новых терминов и метафор. Ни в коей мере она не представляет объяснений, которые были бы глубже фактографического описания"[56]. 2.8.2."Воздействие будущего на настоящее".
Приведем один из образчиков синергетической терминологии, выпукло характеризующий схоластическую суть "синергетического" подхода в познании объективной природно-исторической действительности: «если представить аттракторы как состояния, имеющие конус притяжения, то внутри этих конусов грядущий ход событий начнет оказывать решающее воздействие на настоящее... Это заманчивое возможность для стабилизации социальных процессов: настоящее определяется не прошлым, как в случае линейных систем, а будущим"»[69]. По этому поводу, развивая мысль Е. Топольского, можно сказать следующее: синергетический подход, в интерпретации его современных адептов, не только не дает какого-либо прироста знаний о природно-исторической действительности, но и просто несостоятелен, так как утверждает химерический тезис о "решающем" влиянии будущего на настоящее. Зададим лишь два вопроса теоретикам "синергизации" исторической науки: а) каким образом этот тезис можно проверить на достоверность? б) как профессиональный историк может исследовать "будущее" (непосредственно или по историческим источникам), если оно еще не состоялось, т.е. не стало "настоящим" (природно-событийная реальность), а затем "прошлым" (природно-источниковая реальность)? 2.8.3. "Несостоявшееся прошлое". Л.И. Бородкин в своей книге с весьма характерным названием "Моделирование исторических процессов: от реконструкции реальности к анализу альтернатив", по сути, пишет о возможности достоверно установить - как бы шло развитие тех или иных исторических событий и процессов, если бы победила нереализованная альтернатива. Но, как известно, академическая история изучает "прошлое", которое изменить ("сконструировать") уже нельзя. По историческим и природно-историческим источникам можно определить наличие (или отсутствие) той или ной альтернативы в истории, ход борьбы между противоборствующими сторонами, установить причины победы одной из альтернатив. Вместе с тем, не выходя за рамки предмета исторической науки, невозможно достоверно установить - как бы шло развитие тех или иных исторических событий (природных явлений, связанных с ними), если бы победила нереализованная альтернатива, так как она не состоялась. А это, в свою очередь, означает, что нет никаких исторических и (или) природно-исторических источников, из которых можно было бы извлечь и интерпретировать исторические (природно-исторические) факты о конкретной (а не умозрительной) реализации несостоявшейся альтернативы. Таким образом, понятие "несостоявшееся прошлое" ("несостоявшаяся альтернатива исторического развития") не содержит в себе какого-либо научно-исторического содержания. Процитируем фрагмент из этой книги, ярко характеризующий изначальный методологический неисторизм и искусственность "модельно"-математического подхода к анализу несостоявшегося "прошлого": "Изложенная методика моделирования имеет существенное ограничение. Дело в том, что она основана на предположении о неизменной интенсивности всех процессов, происходивших в среде крестьянства. В силу этого результаты зависят от исходных данных, положенных в основу ретропрогноза. Если, например, использованы сведения о перемещении хозяйств из одной группы в другую в урожайный год, когда экономический уровень деревни в целом рос и тенденция к повышению социального статуса преобладала над тенденцией к снижению, то и прогноз будет строиться исходя из подобных благоприятных условий. Иначе говоря, социальная структура деревни в таком случае действительно могла оказаться такой, как предсказано, лишь при условии, что все последующие годы окажутся урожайными, а экономическая конъюнктура не будет испытывать существенных изменений" [67]. 2.9."Создание пустых конструктов". Не может не вызывать удивления стремление некоторых исследователей через абсолютизацию "феноменологического" подхода отрицать необходимость "нарративности" в изучении природно-исторической действительности (лат. narrare «рассказывать", "повествовать»). Так, О.М. Медушевская (1922-2007) утверждала: «нарратив - способ повседневного мышления, призванный осмыслить причинно-следственные связи состоявшегося события. Применительно к истории исторический нарратив строится по тому же принципу: зная результат, историк восходит к причинам". "Нарратив не есть научный метод исследования, ибо результат уже задан и «ответ» задачи уже известен и не предполагает новизны или доказательности. Нарративисту «нужна историческая дистанция», он отрицает альтернативность – «сослагательное наклонение». Следовательно, вопрос о выборе и альтернативе исключается самим жанром повествования. Нарративистская логика историка - логика повседневного наивного и ненаучного мышления"[71]. С.С. Минц идет еще дальше, связывая «нарративистскую парадигму» с «мифотворчеством». Вслед за О.М. Медушевской, данный исследователь противопоставляет "нарративности" феноменологический подход с его, якобы, «мощным потенциалом получения достоверного проверяемого и сопоставляемого эмпирического знания» [72]. Однако последователи О.М. Медушевской не учитывают того факта, что нарративность «скрепляет» рассуждения, несет в себе «определенные рационализирующие связи и отношения», является «значительной частью общей стратегии рационального продвижения»[73]. В этом смысле «нарративность» в историческом исследовании выполняет ту же роль, что и «интерпретация-описание» в естественно-научном познании [74]. Таким образом, "нарративность" (интерпретация-описание) – это одна из главных, наряду с интерпретацией-объяснением (в нашем понимании: обобщение в виде заключения), форма научного познания природно-исторической действительности, которую нет никаких оснований «изгонять» из исторического исследования или противопоставлять иным методологическим подходам, также как нет никаких причин квалифицировать "нарративистскую" логику историка как логику "повседневного наивного и ненаучного мышления". Что же касается т.н. "феноменологического" подхода к изучению прошлого в интерпретации О.М. Медушевской, то кратко можно сказать следующее: данный подход не пригоден для использования в собственно историческом исследовании, т.к. отрицание автором "нарративности" (интерпетации-описания) фактически разрушает одну из несущих опор фундамента исторической науки, без которой она перестает быть наукой. Как показывает многолетняя практика исторических исследований, только путем обобщений (в форме заключений) выявленных существенных исторических фактов (интерпретация-объяснение) можно претендовать на приблизительно верную реконструкцию фрагментов объективной природно-исторической действительности. Именно поэтому нет никаких оснований утверждать, что "смена парадигм в сообществе происходит не путем модернизации нарратива, но путем формирования другой, феноменологической, логики исследования"[70]. Подход к изучению прошлого, предложенный О.М. Медушевской, условно можно определить как "создание пустых конструктов" (по аналогии с понятием "пустые множества", используемом в логике [75]). Главная причина научной несостоятельности предложенной О.М. Медушевской концепции - в осознанном игнорировании преемственности в разработке новых подходов к изучению прошлого, в "неизбывном" стремлении (вместе с рядом других отечественных исследователей) к неким "революциям", "смене парадигм" в теории и методологии истории - без всяких на то реальных оснований. 2.10. О смешении понятий "предыстория", "собственно история" и "постистория". Некоторые исследователи в целях «удревления» истории того или иного учреждения, неправомерно игнорируют его предысторию и постисторию, тем самым осуществляя «конструирование» прошлого. Рассмотрим этот постмодернистский прием на примере истории Балашовского Покровского женского общежительного монастыря (1884-1920). Пытаясь ошибочно представить женскую богадельню, Покровскую женскую общину и Покровскую трудовую артель как вехи истории собственно Балашовского женского общежительного монастыря отдельные авторы подменяют понятие «православный монастырь» понятиями «женская богадельня», «Покровская женская община» и «Покровская трудовая артель». То же самое наблюдается с понятием "обитель", хотя в историко-юридическом смысле "обителью" можно называть лишь монастырь. В результате получается многоступенчатая подмена понятий: «женская богадельня-монастырь (обитель)»; «женская община-монастырь (обитель)» и «трудовая артель-монастырь (обитель)"[76]. 2.11. Апология постмодернизма в познании объективной природно-исторической действительности. Завидную готовность следовать постулатам постмодернизма в познании объективной природно-исторической действительности демонстрируют Л.П. Репина, В.В. Зверева и М.Ю. Парамонова в совместном труде "История исторического знания"[58]. Соавторы утверждают: "И все же разрушительная деятельность постмодернистской программы расчищает новые пути познания"; "Постмодернистская интеллектуальная программа определяет характер будущего посредством изменения представлений о прошлом"; "Но не менее значим и выразителен акцент на эстетическую функцию истории, который делают сторонники ее постмодернистской парадигмы, отождествляющие историю с литературой»; "Траекторией движения историографии между полюсами научной аргументации и литературной репрезентации может быть записана одна из версий ее непростой истории". Примечательно, что пособие заканчивается утверждением о том, что "новые направления современной историографии" уже "усвоили уроки постмодернистского вызова" [58]. Однако создатели книги явно выдают желаемое за действительное. На самом деле постмодернизм не имеет никакого отношения к собственно исторической науке, представляет из себя не более чем набор фокуснических когнитивных приемов, паразитирует на логических парадоксах "бесконечный регресс" и "универсальная альтернатива"[59]. Именно поэтому никаких "уроков" это антинаучное направление преподать не может, также как и что-то "разрушить". 3. Академический принцип историзма - системообразующий принцип в познании фрагментов объективной природно-исторической действительности Проведенное исследование по теме "Методология истории: академизм и постмодернизм" позволяет обозначить примерную номенклатуру основных понятий и методологических регулятивов (ограничений), составляющих содержание принципа историзма - системообразующего принципа в познании фрагментов объективной природно-исторической действительности. 3.I. Некоторые основные (базовые) понятия академического принципа историзма 3.1.1. Объективная природно-историческая действительность (ОПИД). Объективная природно-историческая действительность - это непосредственно и опосредованно, фрагментарно наблюдаемая, движущаяся, изменяющаяся, взаимосвязанная глобальная совокупность природно-событийной и природно-источниковой реальностей; в основе этого процесса: 1) деятельность человека - природного мыслящего существа, детерминированная инстинктами, наследственностью и нормами поведения, формирующимися и укрепляющимися по ходу усвоения людьми как положительного, так и отрицательного многовекового опыта естественно сменяющих друг друга поколений, 2) непрерывная и разноплановая трансформация фрагментов объективно существующей природно-событийной реальности в исторические и природно-исторические источники (событие-источник), приводящая к образованию и постоянному движению природно-источниковой реальности, 3) систематическая трансформация фрагментов объективно существующей природно-источниковой реальности в исторические события (источник-событие). В каждом отдельном случае, момент завершения трансформации исторического события (или природного явления) в исторический или природно-исторический источник отграничивает природно-событийная реальность от природно-источниковой реальности (событие-источник). Примерно, то же самое мы наблюдаем в процессе трансформации фрагментов объективно существующей природно-источниковой реальности в исторические события (источник-событие). Нужно видеть динамичное взаимодействие этих двух реальностей, которое не заканчивается после трансформации исторических и природно-исторических событий в исторические и природно-исторические источники. В этом плане было бы неправильно представлять природно-источниковую реальность как нечто аморфное, неподвижное, меняющиеся только под влиянием природных факторов, а тем более, противопоставлять ее природно-событийной реальности и (или) отделять от нее. Фрагменты природно-источниковой реальности, являясь органической частью природно-исторической действительности, систематически вовлекаются людьми в непосредственно происходящие события, становясь актуальными и современными (источник-событие). При этом надо помнить, что человек одновременно является и событием (например, организатор события, участник события, свидетель события) и источником (например, человек - источник устной истории, человек - природно-исторический источник, как фрагмент неживой природы после его кончины). Вот почему между природно-событийной и природно-источниковой реальностями отсутствует четкая граница в привычном понимании этого слова. Вернее будет делать акцент на диалектическом единстве этих реальностей в рамках постоянно движущейся и изменяющейся природно-исторической действительности. Именно эту объективную природно-историческую действительность, с помощью комплекса методов и средств, фрагментарно изучает историк, именно она является объектом исторической науки. 3.1.2. Некоторые разновидности исторических источников. Понятием "исторический источник" обозначается фрагмент объективной природно-источниковой реальности, созданный людьми, являющийся (потенциально или непосредственно) предметом исторического исследования. 3.1.2.1. Методолого-историографический источник. Этим понятием обозначает научный труд как таковой, посвященный проблемам методологии познания и (или) историографии. 3.1.2.2. Научно-исторический источник. В теории, методологии и методике исследования непосредственно наблюдаемой природно-событийной реальности понятие "научно-исторический источник" обозначает документ, в котором содержится описание непосредственно виденного историком того или иного фрагмента события и (или) природного явления, связанного с этим событием. Примерная структура документа: тема исследования, автор, порядковый номер, время, место, описание увиденного, приложения (фото, видео, рисунки, вещественные остатки и т.д.). Широкое использование научно-исторических источников, можно предположить, приведет к кардинальному повышению роли локально-исторических исследований в научном познании прежде всего региональной и местной истории. Помимо всего прочего, научно-исторические источники важны при проведении исторических исследований с учетом требований ЭПИ-метода. 3.1.3. Природно-исторический источник. Понятием "природно-исторический источник" обозначается фрагмент неживой природы, использовавшийся людьми или каким-то образом повлиявший на ход исторических событий (события), являющийся (потенциально или непосредственно) предметом исторического исследования. 3.1.4. Человек как исторический и природно-исторический источник, связующее звено между природно-событийной и природно-источниковой реальностями. Будучи частью объективной природно-исторической реальности, человек как природное (но способное к абстрактному мышлению) существо, может быть (потенциально или в реальности) историческим и природно-историческим источником. Прежде всего, как участник или свидетель свершившихся событий, он - важный источник т.н. "устной истории". На том или ином этапе своей жизни, сохраняя в своем облике и повседневной деятельности характерные черты (например, особенности питания, личной гигиены и санитарии, своеобразие одежды, речи, восприятия мира) какого-либо исторического периода (периодов), - человек сам по себе представляет "фрагмент прошлого в развитии", который, при соблюдении определенных правил, может быть предметом непосредственных наблюдений. Останки умершего человека, изучаемые археологами, относятся уже к природно-историческому источнику, т.к. являются частью неживой природы. Таким образом, человек, можно сказать, и в этом смысле - связующее звено между природно-событийной и природно-источниковой реальностями" (человек-событие сам по себе; человек - участник события; человек - свидетель события; человек - исторический (природно-исторический) источник). 3.1.5. О понятиях "событие-источник" и "источник-событие". Понятиями "событие-источник" и "источник-событие" обозначаются переходные (промежуточные) состояния каждого отдельного события и (или) источника в процессе взаимодействия природно-событийной и природно-источниковой реальностей: 1) событие уже стало источником, но еще продолжает некоторое время оказывать непосредственное ("живое") влияние как на непосредственных его участников, так и на людей, не являвшихся таковыми, но каким-то образом узнавших о нем (событие-источник); 2) источник, находясь определенное время в статическом состоянии, в ситуации, например, социально-политического напряжения в обществе, может стать поводом для событий весьма значительных, т.е. на некоторое время становится органической частью современного ("живого") события - источником-событием. Примерно, такие же процессы происходят во многих других сферах, в частности, в рамках ознакомления общественности с содержанием исторических и (или) природно-исторических источников по ходу выступлений исследователя в печати, на конференциях, интернете и т.д. Данные выступления и реакцию на них (обсуждения, комментарии, рецензии и т.п.) можно квалифицировать как события [78]. 3.1.6. Историческое время. Понятием «историческое время» обозначается необратимая, последовательная смена взаимосвязанных между собой исторических событий и природных явлений, приводящая к образованию своего рода "событийно-явленческих рядов", условно подразделяемых, например, на календарное, социально-историческое и историографическое время. 3.1.7. Исторический (природно-исторический) факт. 3.1.7.1. Понятием "факт-фрагмент события (природного явления)" обозначается фрагмент "живого" события (или природного явления, связанного с ним), наблюдаемый исследователем непосредственно. 3.1.7.2. Понятием "факт-связь" обозначается фрагмент "живого" события (или природного явления), наблюдаемый непосредственно и свидетельствующий, например, о какой-либо связи действий участников события между собой (или связи природного явления с действиями людей). 3.1.7.3. Понятие "факт-источник" обозначает поддающийся непосредственному наблюдению исторический или природно-исторический источник. То есть устанавливается прежде всего физическое наличие выявленного исследователем исторического или природно-исторического источника как такового. 3.1.7.4. Понятием "факт-информация" обозначается информация, извлеченная из исторического или природно-исторического источника, приблизительно верно раскрывающая фрагменты свершившихся исторических событий или природных явлений, связанных с ними. 3.1.7.5. Понятие "методолого-историографический факт" обозначает фрагмент информации, извлеченный из методолого-историографического источника, позволяющий установить те или иные методологические и (или) историографические позиции его автора по избранной для исследования проблеме. 3.1.7.6. Понятием "факт "конструирования прошлого"" обозначается фрагмент информации, извлеченный из исторического труда, свидетельствующий о придумывании автором никогда не существовавших исторических событий и (или) природных явлений, связанных с ними. 3.1.7.7. Понятием "факт историографии" обозначается опубликованный академический исторический труд, не прошедший еще академической исторической экспертизы (академическое историческое знание-мнение). Это же понятие используется в отношении академического труда, в свое время признанного доказанным, проверяемым и не опровергнутым, но позднее не прошедшего дополнительной академической экспертизы, вылившейся по ходу проверки в экспертизу-опровержение. 3.1.7.8. О понятии "существенный исторический факт". В процессе академической исторической реконструкции (АИР) фрагментов природно-исторической действительности обращается внимание на поиск, установление и интерпретацию, главным образом, существенных исторических (природно-исторических) фактов – основных единиц академического исторического знания. Иерархия существенных исторических (природно-исторических) фактов выстраивается в зависимости от целей, территориальных рамок, имеющейся совокупности исторических (природно-исторических) источников и иных особенностей конкретного исторического исследования. Важные для академической истории сами по себе, существенные исторические (природно-исторические) факты, кроме того, служат основанием для теоретического осмысления (в форме заключений) изученных фрагментов ОПИД [60]. Исторические и природно-исторические факты рассматриваются в рамках исторического времени и являются предметом исторического исследования. 3.1.8. Академическая историческая реконструкция (АИР). Академическая историческая реконструкция осуществляется как непосредственно - через наблюдение фрагментов природно-событийной и природно-источниковой реальностей, так и опосредованно - через извлечение (и интерпретацию) из исторических (природно-исторических) источников фактов-информаций, приблизительно верно раскрывающих фрагменты свершившихся исторических событий и природных явлений, связанных с ними. АИР, также как и другие направления академического познания, отличается незавершенностью, относительностью, охватывая лишь фрагменты ОПИД. В связи с этим, на практике АИР может трактоваться в узком и широком смыслах. В узком смысле АИР понимается как процесс и этап академического исторического исследования конкретной проблемы, организационно завершающийся, например, успешной защитой диссертации. В широком смысле АИР рассматривается, по сути, как неограниченное во времени более глубокое изучение этой же проблемы как ныне живущими, так и последующими поколениями историков-исследователей. Понятно, что раз природно-историческая действительность находится в постоянном движении и изменении, то и академическая историческая реконструкция должна поэтапно отражать этот процесс, прежде всего, с учетом наличной источниковой базы и уровня профессиональной подготовки историка. 3.1.9. Об основных процедурах и методах АИР. Основные процедуры АИР: методологический и историографический анализ изучаемой проблемы; обоснование проблемы (проблем) и гипотезы (гипотез), объекта и предмета (предметов), цели (целей) и задач; непосредственное наблюдение и фиксирование фактов-фрагментов событий (природных явлений, связанных с ними), фактов-связей и фактов-источников; извлечение (и интерпретация) из исторических (природно-исторических) источников фактов-информаций (т.н. "опосредованное наблюдение прошлого"); историческое и иное экспериментирование в зависимости от целей и задач исследования; академическая экспертиза полученных результатов на основе критериев, принятых в каком-либо действующем сообществе профессиональных экспертов-историков. Главная цель экспертизы (экспертиз) - выяснить насколько сформулированные историком заключения соответствуют выявленным им историческим (природно-историческим) фактам, насколько надежна была сама фактологическая база исследования. Академические исторические экспертизы, как правило, проводятся на разных этапах исследования (например, обсуждение отдельных глав диссертации на заседании кафедры, предзащита диссертации, размещение текстов диссертации и автореферата в интернете и получение соответствующих отзывов, защита диссертации, по ходу которой выступают оппоненты и т.д.). Кроме того, по одной и той же проблеме академические экспертизы могут проводиться периодически - по мере обнаружения новых исторических (природно-исторических) источников, извлечения (и интерпретации) из них новых исторических (природно-исторических) фактов, а также по ходу выявления фактов т.н. "конструирования (придумывания) прошлого". По своим результатам академическая экспертиза может быть констатирующей доказанное знание, уточняющей (дополняющей) отдельные элементы полученного знания, экспертизой-опровержением, экспертизой смешанного типа [61]. О методах АИР. Академические исторические процедуры осуществляются с использованием разных методов исследования, в т.ч. и методов естественных наук. Однако «описательно-повествовательных методы» - преобладающая форма исторического анализа, основанная «на сущностно-содержательных понятиях и категориях, выраженных в естественно-языковой форме» (Ковальченко И.Д.) [62]. Перспективным может быть метод эстафетно-поколенного исследования (ЭПИ-метод) фрагментов природно-событийной реальности. 3.1.10. Академическое историческое знание (АИЗ). Академическое историческое знание - результат поэтапно проводимой академической исторической реконструкции в процессе непосредственного наблюдения фрагментов природно-событийной и (или) изучения природно-источниковой реальностей. АИЗ состоит главным образом из двух видов – академического исторического знания-мнения (факт историографии) и академического исторического знания доказанного, проверяемого и не опровергнутого (ДПН). Академическое историческое знание-мнение отличается от обыденного «знания-мнения» тем, что оно выведено с помощью академических процедур и методов исследования. На пути к новому статусу – академического исторического знания ДПН - академическое историческое знание-мнение должно сначала стать фактом историографии, т.е. быть опубликованным, войти в контекст изучаемой проблемы. Академическое историческое знание-мнение (факт историографии) в своем статусе может находиться неопределенно долго, прежде чем пройдет академическую экспертизу. Академическое историческое знание-мнение может получить статус ДПН на основе решения какого-либо сообщества профессиональных экспертов-историков [63]. 3.1.11. О проверяемости, уточнении и опровержении АИЗ. Из материалистического понимания объективной природно-исторической действительности вовсе не "вытекает" возможность установления «объективной исторической истины», открытия «объективных законов истории», "изучении будущего и несостоявшегося прошлого". Подобного рода исследования, если и возможны, то вне рамок предмета академической истории. Нужно иметь ввиду, что историческая наука является наукой описательно-обобщающей, что выгодно отличает ее от научных направлений, злоупотребляющих умозрительными, далекими от природно-исторической действительности построениями. С академической точки зрения качественно выполненные историком описания и обобщения (в виде заключений) существенных исторических (природно-исторических) фактов, извлеченных (и интерпретированных) из имеющихся на данный момент исторических и природно-исторических источников (в т.ч. открытых самим исследователем), позволяют приблизительно верно описать и объяснить те или иные фрагменты исторических событий и связанных с ними природных явлений.
Академизм исторического исследования заканчивается там, где начинается "конструирование прошлого", т.е. придумывание несуществующих исторических и природно-исторических фактов. Например, авторы исследовательских работ часто осознанно не указывают название цитируемого архивного документа, ограничиваясь "глухой" архивной ссылкой, что крайне затрудняет академическую экспертизу произведения в целом. Однако известно, что в архивах много сомнительных по своей научной ценности документов (черновики, проекты решений, никем не подписанные и т.п.). То есть такого рода источники, по сути, мало что доказывают. Кроме того, академические исторические работы, претендующие на статус ДПН, вероятно, должны содержать полные публикации (в приложениях или в отдельном томе) хотя бы самых важных, новых, открытых исследователем, документов (иных исторических источников), содержание которых подтверждает обоснованность сделанных выводов. В этом случае эксперт получает дополнительную возможность пройти, по крайней мере, основную часть пути по исследованию научной проблемы, пройденную автором, выясняя по ходу анализа соответствие академического труда еще и такому критерию, как проверяемость полученных научных результатов. Все это, конечно, не исключает проведение экспертной проверки, полностью или частично, например, непосредственно в архиве, в частности, на предмет физического существования того или иного источника. В конечном итоге, полученное исследователем историческое знание может быть признано проверяемым, доказанным (прошло публичную защиту в рамках сообщества профессиональных историков-экспертов) и не опровергнутым (если опровержений вообще не было, или они оказались не состоятельными). Как показывает практика, академическое историческое знание ДПН в дальнейшем может уточняться его автором в связи с обнаружением, в частности, новых исторических и (или) природно-исторических источников по теме исследования. Утрата статуса академического исторического знания ДПН возможна по результатам дополнительной академической экспертизы, которая по ходу проверки может вылиться в экспертизу-опровержение (то есть данное знание остается лишь фактом историографии); или в результате кардинального переосмысления доказанного знания самим автором - на основе выявления принципиально новых исторических и (или) природно-исторических фактов. Результаты такого переосмысления первоначально будут иметь также статус академического исторического знания-мнения (факт историографии), и лишь после проведения соответствующей академической экспертизы могут быть признаны академическим историческим знанием ДПН. 3.1.12. О понятиях "сравнительно-исторический отечествоцентризм" и "мировая многополярная академическая историческая наука". 1. Сравнительно-исторический отечествоцентризм (СИО) - один из научных подходов, предполагающий исследование фрагментов всемирной истории (при наличии соответствующей источниковой базы) в контексте ("через призму") истории того или иного Отечества. Классический пример: исследование истории Второй мировой войны в контексте ("через призму") истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., что позволило научно доказать решающий вклад СССР в победу над германским нацизмом. Использование СИО предполагает формулирование актуализированных научных обобщений ("уроков истории") как для Отечества, так и для окружающего мира, не выходя за рамки требований академического принципа историзма. 2. Изучение историографии всеобщей и отечественной истории показывает, что словосочетание "мировая академическая историческая наука", в условиях сохранения и дальнейшего развития национальных государств, по сути, обозначает конгломерат национально ориентированных научных исторических школ, нередко рассматривающих фрагменты всемирной истории (прямо или косвенно) с позиций сравнительно-исторического отечествоцентризма. Таким образом, точнее будет сказать, что к нашему времени сформировалась мировая многополярная академическая историческая наука (МАИН). Особо нужно подчеркнуть - понятия "сравнительно-исторический отечествоцентризм" и "мировая многополярная академическая историческая наука" не имеют ничего общего с т.н. "принципом партийности", "классовым подходом" и постмодернизмом в изучении истории. 3.1.13. О соотношении понятий "предыстория", "собственно история" и "постистория". Предыстория, как известно, предшествует возникновению собственно истории чего либо. Под "собственно историей" понимается возникновение, развитие и завершение истории чего-либо (например, учреждения (организации и т.д.). Собственно история начинается после завершения ее предыстории. Понятием "постистория" (не смешивать с постмодернистским толкованием этого понятия) в нашей интерпретации обозначает исторический период, начинающийся после завершения собственно истории чего-либо (лат. post — после, т.е. после не истории в самом широком понимании этого слова, а после, повторимся, собственно истории чего-либо, ставшее основным предметом исследования). Все три понятия взаимосвязаны между собой и диалектически подвижны в зависимости от основного предмета исследования. Центральным понятием здесь выступает понятие «собственно история»[77]. 3.1.14. Перечень некоторых основных (базовых) понятий академического принципа историзма. Некоторыми основными (базовыми) понятиями академического принципа историзма являются: объективная природно-событийная реальность; объективная природно-источниковая реальность; объективная природно-историческая действительность как совокупность объективной природно-событийной и объективной природно-источниковой реальностей; историческое время, понимаемое как необратимая, последовательная смена взаимосвязанных событий в человеческом обществе и явлений в природе, приводящая к образованию своего рода "событийно-явленческих рядов", условно подразделяемых, например, на календарное, социально-историческое и историографическое время; исторический источник; природно-исторический источник; событие-источник; источник-событие; человек как исторический и природно-исторический источник; человек-событие сам по себе; человек - участник события; человек - свидетель события; предыстория; собственно история; постистория; объект академической истории - природно-историческая действительность; предмет академической истории - исторические и природно-исторические факты (факт-фрагмент события (природного явления); факт-связь; факт-источник; факт-информация; методолого-историографический факт; факт историографии; существенный исторический факт); академическая историческая реконструкция; основные процедуры академической исторической реконструкции; основные методы академической исторической реконструкции, среди которых описательно-повествовательные методы - преобладающая форма исторического анализа; проверяемость академического исторического знания; академическое историческое знание-мнение (факт историографии); доказанное, проверяемое и не опровергнутое (ДПН) академическое историческое знание; уточнение автором академического исторического знания ДПН; утрата статуса академического исторического знания ДПН; сравнительно-исторический отечествоцентризм; мировая многополярная академическая историческая наука [64]. 3.2.Некоторые базовые (основные) методологические регулятивы (ограничения) академического принципа историзма 3.2.1. Полноценное историческое исследование, как правило, возможно лишь при условии осознания исследователем существования объективной природно-исторической действительности. Этот постулат зиждется на очевидном, не нуждаемся в особых доказательствах существовании независимо от историка окружающего мира, включая человеческое общество, как мыслящую, способную к абстрактному мышлению часть природы. 3.2.2. О необходимости самоограничения в выработке (выборе) историком понятийного аппарата конкретного исследования. По ходу исследования историки нередко сталкиваются с парадоксом, обозначенным логиком А. Тарским как «бесконечный регресс»[65]. То есть, пытаясь объяснить смысл какого-либо выражения, исследователь по необходимости пользуется другими выражениями, объясняя же смысл этих выражений, ему приходиться снова обращаться к новым выражениям и так до бесконечности. В связи с этим неизбежно возникает проблема обоснованного самоограничения в выработке (выборе) историком понятийного аппарата проводимого конкретного исследования. 3.2.3. О неприемлемости «конструирования прошлого. Признание относительности (приблизительности) академического исторического знания, в то же время, не дает никаких оснований для "конструирования прошлого". Многолетняя практика исторических исследований показала, что если нет исторических (природно-исторических) источников (или их недостаточно, или они недостаточно информативны), то невозможно и полноценное историческое исследование, по ходу которого можно было бы получить доказанное, проверяемое и не опровергнутое (ДПН) академическое историческое знание. Таким образом, словосочетание "конструирование (создание) прошлого" (или такой же по смыслу речевой оборот) нельзя использовать в качестве некоего краткого определения процесса исторического исследования, т.к. оно радикально искажает его действительную суть. "Конструирование прошлого" проявляется прежде всего: в целенаправленной подмене одних понятий – другими, что неизбежно приводит к деформированию понятийного аппарата исследования в целом. Ярким примером такой подмены является «замещение» понятия «исторический источник» понятием «текст»; в использовании особого жанра исторического повествования - «исторической прозы», основанного на искусственном соединении данных исторических источников и придуманной («сконструированной») автором информации, на ложных аналогиях; в подмене принципа историзма синергетическим принципом "самоорганизации"; в утверждении о "решающем воздействие будущего на настоящее"; в использовании концепции «онтологического соучастия» (образчик: "благодаря памяти тела рождается ощущение подлинности воскрешенного прошлого, и мы испытываем радость, обретая действительность"[Н.Н. Козлова]); в имитационном моделировании несостоявшихся альтернатив в истории; в неоправданном объединении реальных исторических событий в единый класс с символическими обозначениями; в использовании понятий-кентавров - "конструкция-реконструкция" и «создание-воссоздание»; в искусственном расщеплении единого понятия «историческая реальность (действительность)» на два: «историческая действительность» и «историческая реальность»; в релятивистском уравнивании всех "субъектов исторического познания", что обеспечивает когнитивную легитимацию постмодернистского "конструирования прошлого"; в конструировании "воображаемых картин"; в псевдофилософском «конструировании прошлого» (например, «концептуальные мутации»); в подмене исторического подхода к изучению прошлого математическим ("математический постмодернизм"); в целенаправленном размывании сложившегося понятийного аппарата исторической науки путем массового перенесения в него понятий из других наук - без проведения соответствующей историко-методологического адаптации; в абсолютизации т.н. "феноменологического" подхода к изучению прошлого совместно с отрицанием "нарративности" ("создание пустых конструктов"); в использовании заранее сконструированной схемы, наполняемой затем специально отобранным историческим материалом; в отождествлении предыстории, собственно истории и постистории; в игнорировании исторического контекста по ходу анализа исторических событий; в подмене гипотезы необоснованной догадкой; в "включении в единый ряд" двух совершенно разных понятий в целях формирования у читателей впечатления о тождестве их содержания; в замалчивании существенных исторических фактов; в подмене исследовательских тем; в отождествлении последовательности исторических событий с их причинностью; в применении познавательного инструментария, характерного для периода «преднауки», когда знание еще не было специализировано; в вульгаризации процедуры сбора и интерпретации исторической информации, что затрудняет саму возможность осуществления каких-либо экспертных процедур (например, в применении «декоративного» аппарата ссылок на источники); в отрицании самого существования объективной природно-исторической действительности [66]; в парадоксе "универсальной альтернативы", когда исследователь, сформулировав весьма убедительную альтернативу каким-либо устоявшимся научным взглядам в своей области знания, пытается механически, без необходимой в таких случаях теоретической адаптации, использовать это достижение в иной отрасли академических исследований, что нередко приводит к внешне эффектным, но не эффективным результатам (например, попытки тотальной математизации исторической науки); в постмодернистком конструировании уже существующего постмодернистского текста ("многослойный постмодернизм" или "постмодернизм в постмодернизме")[68]. Не состоятельны попытки ряда исследователей представить постмодернистское "конструирование (создание) прошлого" как какое-то новое и серьезное научное направление. В основе подобных подходов к изучению истории лежит давнее, многократно опровергнутое заблуждение, смысл которого - в неправомерном с научной точки зрения игнорировании ("отмене") объективно существующей природно-исторической действительности, часто прикрываемом многочисленными оговорками и логическими увертками релятивистского толка. Концепция "конструирования (создания) прошлого", по сути, отрицает преемственность в исторической науке, открывает путь к безудержному наукообразному фантазированию, провакативным утверждениям и понятийному хаосу. Таким образом, академический принцип историзма - это постоянно обновляющийся, изменяющийся по номенклатуре, содержанию и иерархии комплекс базовых понятий и регулятивов, определяющих методологию (стратегию) исследования фрагментов природно-исторической действительности как движущейся, взаимосвязанной совокупности природно-событийной и природно-источниковой реальностей [79]. Содержание академического принципа историзма подтверждает принципиальное единство естественнонаучного и исторического познания как разновидностей академического исследования объективно существующего мира. К примеру, историк, также как естествоиспытатель, изучает не всю объективно существующую действительность, а только ее фрагменты, количество и разнообразие которых – бесконечно; историк, также как естествоиспытатель, получает проверяемое академическое знание о фрагментах объективной природно-исторической действительности (в частности, по ходу академической исторической экспертизы). Различия между академическим историческим познанием и иными видами академического познания заключаются, главным образом, в предметной области и в специфическом сочетании и использовании методов, подходов, средств и процедур исследования. ©Кузеванов Леонид Иванович, кандидат исторических наук, доцент; текст, 2021-2023
| Дата размещения: 10.04.2021 |
|
Аннотации
|